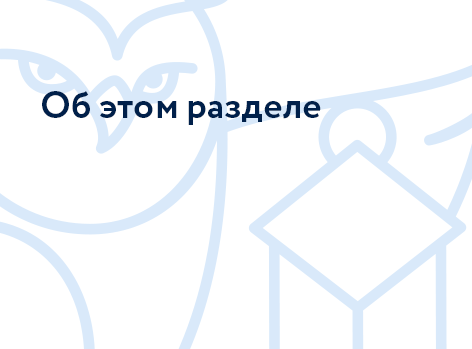Преодолевая государственно-конфессиональные отношения: Сборник статей /Под общ. ред. С.Н. Градировского. - Н. Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии гос. службы, 2003. - 310 с.
Центром стратегических исследований Приволжского федерального округа и АНО "Приволжский гуманитарно-теологический институт" при финансовой поддержке Агентства по Международному Развитию США (АМР США) / Американского Совета по Международным Исследованиям и Обменам (АЙРЕКС) выпущен сборник статей под многообещающим названием "Преодолевая государственно-конфессиональные отношения".
Само название сборника под рубрикой "геокультурная стратегия" должно ко многому обязывать авторов и исполнителей проекта, однако при внимательном знакомстве выясняется, что содержимое не соответствует этикетке, на поверку выходит неудачная попытка выдать желаемое за действительное.
В анонсе говорится, что сборник посвящен проблемам формирования конфессиональной политики и предлагается рассмотрение возможности перехода от "закрытых двухсубъектных государственно-конфессиональных отношений к публичной многосубъектной конфессиональной политике".
Для начала напомним, что термин государственно-конфессиональные отношения уже сам по себе означает многосубъектный характер этих отношений. Государственно-конфессиональные отношения определяются как совокупность исторически складывающихся и изменяющихся форм взаимосвязей и взаимоотношений институтов государства, с одной стороны, и институциональных образований конфессий (религиозных объединений, духовно-административных центров, конфессиональных учреждений), с другой стороны, которые представляют собой, консолидированные объединения верующих, связанных между собой целостной системой религиозных отношений, для которых характерно единство вероучения, обрядности и организации, а также ролевых взаимосвязей, в которых выступают верующие и их лидеры. В этой связи, заметим, что двухсубъектные отношения всегда обозначаются термином "государственно-церковные отношения", однако и он, обычно трактуется в расширительном смысле, как отношения государства с религиозными объединениями, но, тем не менее, уже давно не отражает характер и сущность этих отношений, а потому от него в последнее время отказались.
Что же касается "конфессиональной политики", то она не должна и не может быть самостоятельным направлением внутренней политики, так как кроме использования конфессионального ресурса в политических целях, что всегда чревато расколом общества и нарушением его стабильности, ни для чего не годится.
Соответственно представленные статьи призваны описать "позиции потенциальных субъектов конфессиональной политики относительно их роли и места в структуре взаимоотношений с другими субъектами", а также раскрыть "слой противоречий, коренящихся в законодательстве РФ, регулирующем вопросы в области реализации религиозных прав и свобод", рассказать о "проблемах модернизации православия и ислама" и региональном опыте.
Сборник состоит из вступления составителей, концептуальной части, аналитической части, исследовательско-проектной части, кейсовой части и приложения. Следует сразу отметить, что многие статьи сборника выполнены на высоком научном уровне, но не все они вполне соответствуют концепции издания. Возникает впечатление, что некоторые статьи являются "украшением", а их авторы приглашены в качестве "парадных генералов". Придать солидность (концептуальному подходу составителей) сборнику призваны имена известных мыслителей, специалистов и публицистов: И.Я. Кантерова, Г.Д. Джемаля, А.Е. Себенцова и др.
Во вступлении (С. 5-8) и авторской статье (С. 99-120) составителями С.Н. Градировским и Е.Ю. Малаховой даётся постановка проблемы и обоснование концепции сборника. Они обоснованно обозначают ряд деструктивных тенденций в области отношений государства с религиозными объединениями в результате чего "государство и религиозные организации оказываются отделенными не столько друг от друга, сколько от общества". Нечего возразить и тезису о том, что реальное положение дел "вступает в противоречие с декларируемыми принципами свободы вероисповедания, равенства религий перед законом и другими концептуальными положениями российского законодательства" (С. 6).
В данном случае бросается в глаза то, что упоминается только свобода вероисповедания, а свобода совести выпала из внимания составителей. Более того, приходится констатировать, что авторы - составители свободу совести трактуют, как синоним религиозной свободы, а затем ставят её в зависимость от "конфессиональной политики", формируемой исходя из интересов заинтересованных групп.
Вызывает определенные возражения утверждение, что "реальное состояние дел в государственно-религиозной сфере регулируется системой приватных договоренностей и закрытых двусторонних соглашений" (С. 6). Это только отчасти так. Кроме интересов власти и конфессиональной бюрократии на ситуацию оказывает влияние научно-теоретическая неразработанность проблематики.
Анализ реальной ситуации показывает, что "официальная" наука и законотворческий процесс, при заинтересованном и/или молчаливом согласии лидеров ряда конфессий, находятся под контролем власти, и потому роль первой сводится к подведению некой наукообразной базы под антиконституционную политику государства.
В этом контексте характерной чертой является сращивание структур, обслуживающих интересы некоторых конфессий с органами власти и "официальной наукой". Деятельность этих альянсов носит имитационный правозащитный характер, является корпоративно ориентированной и направлена на реализацию только интересов власти плюс определенных религиозных и профессиональных корпораций, а потому имеет тенденцию на приватизацию этой сферы правовых отношений, превращению ее в "цех борьбы за свободу совести".
На самом деле предлагаемое уважаемыми составителями расширение списка субъектов (помимо государства и религиозных организаций) "конфессиональной политики" уже давно произошло и даже описано в научной литературе (См. например: Бурьянов С.А., Мозговой С.А. "Некоторые тенденции современных государственно-религиозных отношений в Российской Федерации" // "Право и политика" № 1. 2003 г.; Бурьянов С.А. "Системная коррупция в области отношений государства с религиозными объединениями. Подходы к определению понятия, форм и основных характеристик" // "Право и жизнь". № 57 (5) 2003 г.; "Системная коррупция в области отношений государства с религиозными объединениями. Последствия и направления их преодоления (антикоррупционная стратегия)" // "Право и жизнь". № 58 (6) 2003 г.).
Поразительно, но предлагаемый расширенный состав самостоятельных субъектов "конфессиональной политики" самым невероятным образом совпадает с субъектами системной коррупции в области отношений государства с религиозными объединениями: религиозная журналистика, академические структуры, адвокатура, экспертные советы, межрелигиозные советы, международные организации.
Роль "религиозной журналистики" в коррупционной системе отчасти отразил шеф-редактор журнала "Смысл" М.Л. Шевченко, давший классификацию и характеристику ее типов в свой статье, помещённой в данном сборнике: "Увы, "Медиа-союз" оказался всего-навсего очередной политтехнологической структурой, созданной в противовес существующему уже десятки лет, но не подконтрольному государству Союзу журналистов России. Через Гильдию религиозной журналистики начали проводиться в жизнь не идеи независимой журналистики, а вполне сервильные политтехнологические проекты, обслуживающие интересы определенных иерархов Русской православной церкви, околоцерковных деятелей и некоторых государственных и политических структур. Главной задачей Гильдии стала предвыборная консолидация журналистского и религиозного сообщества нашей страны" (С. 39).
"Академические структуры в лице профессорско-студенческих корпораций, собранных вокруг теологических и религиоведческих дисциплин" (С. 6) с некоторых пор задействованы на "идеологическом фронте" для научного обоснования самодовлеющих по отношению к основополагающим конституционным принципам в области свободы совести государственно-конфессиональных отношений и вероисповедной (конфессиональной) политики, позволяющим властным группам контролировать (а если нужно, то подавлять) мировоззренческую сферу. Те же структуры и отдельные религиоведы активно привлекаются "солидными" религиозными организациями для обслуживания корпоративных интересов - в основном для обоснования "религиозности", "традиционности" и формирования положительного имиджа клиентов в глазах государства.
"Адвокатура - и как бизнес, и как правозащита" (С. 6), защищает только "своих" "солидных" клиентов, больше тяготеет к бизнесу и формирует мощный "средний" (между "верхушечным элитно-властным" и "низовым чиновничьим") уровень "купли-продажи влияния". "Отстаивание прав верующих" допускается в качестве периодических пиар-акций. Более того, в науке доминирует уровень правоприменения (т.е., те же адвокаты), являющийся лишь следствием деструктивных процессов законодательного уровня, в свою очередь предопределенного неадекватностью теоретических разработок.
Что касается экспертных советов, выносящих "взвешенные суждения по спорным вопросам правоприменения, включающие специалистов в области религии и права, представителей религиозных организаций, академических и государственных структур" (С. 6), то конечный результат их деятельности будет напрямую зависеть от принципа формирования и персонального состава. Дело в том, что в связи с современным состоянием российского религиоведения как науки, его идеологизацией и конфессионализацией, применение религиоведческих познаний в юриспруденции, не говоря уж о теологических, несет в себе значительный коррупциогенный потенциал и изначально создает предпосылки для нарушения декларируемых принципов свободы совести. А соответствующие государственные структуры, выполняющие функции религиоведческой экспертизы, тяготеют к превращению или в рассадник коррупции, или в некий светский аналог "святой" инквизиции.
Как известно, Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" (1997) в п.1 ст. 6, даёт определение и признаки религиозного объединения, а ст.12 определяет непризнание создаваемой организации в качестве религиозной как основание для отказа в государственной регистрации. Соответствующими идентификационными полномочиями наделены чиновники Минюста. Для определения религиозного характера объединений был создан также Экспертный совет для проведения государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, Положение о деятельности которого утверждено приказом МЮ от 8 октября 1998 г. № 140. Большинство религиоведческих экспертиз приходится на экспертные советы при органах исполнительной власти в субъектах Федерации, которые образуются в соответствии с инструкцией Правительства РФ от 3 июня 1998 г.
Главный парадокс заключается в том, что единого правового и даже религиоведческого (их более 200) определения религии не существует, а значит, эксперты фактически определяют внешние проявления "религиозности" объединений на предмет соответствия собственным представлениям о религии.
Напрашивается вывод, что само использование религиоведческих познаний в юриспруденции (не говоря уже о теологических) является фактором коррупции, а политизация и идеологизация религиоведения, способствует его деградации.
"Межрелигиозные советы - коммуникативно-совещательные площадки, объединяющие представителей широкого круга конфессий" (С. 6) на самом деле объединяют узкие круги, далекие от продвижения не только свободы совести для каждого, но даже свободы вероисповеданий для всех религиозных организаций. Очевидно, что данные советы озабочены только реализацией корпоративных интересов, причём, как правило, не путем отстаивания конституционных принципов свободы совести, а в русле "дружбы" и "тесного сотрудничества" с государственными чиновниками. Естественно, что религиозные организации, решая свои проблемы с помощью адвокатов (зачастую используя коррупционные механизмы), не заинтересованы в равенстве и свободе совести. Поэтому они с одной стороны стремятся приблизиться к власти и получить материальные ресурсы от государства, а с другой - не возражают против дискриминационного законодательства. Например, в современной России при поддержке "традиционных" религиозных организаций (и кандидатов в "традиционные") множатся нарушения в области свободы совести со стороны власти, усиливаются антиконституционные тенденции в области трансформации законодательства о свободе совести. Особенно наглядно это проявилось в период подготовки и обсуждения концепций государственно-конфессиональных отношений, которые, несмотря на свою неконституционную сущность были поддержаны лидерами многих религиозных организаций, в том числе, "гонимых" протестантских (См. Бурьянов С.А., Мозговой С.А. Концепция государственно-конфессиональных отношений: от декларирования свободы совести к антиконституционной государственной политике вероисповедных предпочтений? // Право и политика. 2001. № 6. С. 131-133; Цели и методы религиозной политики. Нужна ли России концепция отношений государства с религиозными объединениями? // НГ-Религии, 24 октября 2001; Государственно-конфессиональные отношения и тенденции трансформации законодательства о свободе совести // Юридический мир. 2001. № 12. С. 4-13; В России создаётся концепция отношений государства с религиозными объединениями // Право и политика. 2002. № 8 (32). С.88-96; Государственная поддержка религии - волк в овечьей шкуре / Русский журнал, 6 июня 2002 г.; Свобода вероисповедания, государственно-конфессиональные отношения и протестантизм в России. "Круглый стол" в Измайлово, 16 января 2002 г. / Под ред. С.А. Мозгового и С.А. Бурьянова. М.: Институт свободы совести, 2002).
"Международные организации" (С. 7), функционирующие в области религиозной свободы и позиционирующие себя в качестве научных и правозащитных, как правило, являются конфессионально ориентированными. Анализ их деятельности показывает, что они не способны иметь принципиальную позицию по вопросам нарушений свободы совести, исходящих от власти и сросшейся с нею доминирующей конфессии. Наглядным примером является Международная ассоциация религиозной свободы (МАРС). Соответственно борьба за религиозную свободу на международном уровне носит избирательный характер - приоритетно защищаются права религиозных организаций, имеющих политическое влияние и соответствующие связи в Вашингтоне. Есть основания полагать, что системная коррупция в области отношений государства с религиозными объединениями, нося транснациональный характер, способствует использованию религии в политических целях и оказывает значительное деструктивное влияние на процессы мирового развития.
Религиозные объединения являются объектом политических интересов со стороны власти, не только в России, но и во многих государствах мира. Это приводит не только к нарушению прав религиозных меньшинств, размыву целого ряда демократических принципов, подавлению свободы мировоззренческого выбора, но, и вероятно, к упущению шанса отдельными государствами и мировым сообществом в полной мере использовать возможности глобализации и найти достойный ответ её вызовам.
Главный недостаток сборника "Преодолевая государственно-конфессиональные отношения" связан с ошибочными общетеоретическими и методологическими подходами, лежащими в его основе. Прежде всего, некорректна сама постановка проблемы формирования "конфессиональной политики" относительно задач реализации конституционных принципов в сфере свободы совести.
Понятие "конфессиональная политика" в Российской Федерации" "красной нитью" проходит через все разделы сборника, в структуру которого авторы пытаются включить "принцип свободы совести" на правах подчинённой категории. Включение широкого универсального понятия "свобода совести" в более узкое понятие "конфессиональная политика" является некорректным и неизбежно ведёт к методологической путанице. Если следовать логике Основного закона страны, то конституционные принципы свободы совести не предусматривают такой "специальной" политики. Реализуя "конфессиональную политику" невозможно реализовать свободу совести "каждого" индивида. Более того, с её помощью невозможно добиться даже религиозной свободы, так как невозможно обеспечить права и свободы только "верующим", игнорируя при этом интересы остальных.
Очевидно, что концепция сборника тяготеет к противоречащему Конституции РФ и нормам международного права подходу, результатом чего явилось сведение проблемы обеспечения свободы совести к конфессиональной политике государства посредством модернизации государственно-конфессиональных отношений. Таким образом, декларируемые права каждого индивида на свободу совести изначально отдаются на откуп властных групп, конфессиональным и профессиональным корпорациям и другим "субъектам конфессиональной политики".
Проблема в том, что "конфессиональная политика" допускает (и даже подразумевает) использование религии в политических целях, манипуляцию общественным сознанием. В этом случае религия превращается в идеологию, что, как правило, сопровождается определёнными религиозными пристрастиями (симпатиями и антипатиями) властных групп и в конечном счёте всегда заканчивается вмешательством во внутренние дела религиозных объединений, в жизнь верующих граждан.
Политтехнологии, основанные на клерикализации и сакрализации власти с целью её приватизации и удержания любой ценой сегодня, как и прежде, живучи и востребованы. Меняются лишь формы. "Субъекты конфессиональной политики" стремятся занять свою иерархическую нишу в этой коррупционной управленческой цепочке, используя и воспроизводя неправовые правила игры. Эксплуатация этноконфессионального фактора и паразитирование на доверии граждан всегда плачевно заканчивается для государства и людей. Эти исторические выводы современные конфессиональные лидеры, чиновники и официальная наука, стоящая на службе корпоративных интересов государственно-конфессиональной бюрократии, предпочитают не замечать.
Таким образом, "конфессиональная политика" (равно как и атеистическая), по своему определению, не способствует реализации конституционного принципа свободы совести. В светском демократическом правовом государстве отношение государства к конфессиям должно строится на общих правовых основаниях, равных к любому религиозному или не религиозному объединению, пользующемуся некоммерческим статусом, равно как и к каждому отдельному человеку вне зависимости от его отношения к религии. Отношения государства с религиозными объединениями должны строиться на основополагающем принципе свободы совести, который всегда первичен, а любые отношения лишь производные от него. Как раз об этом в сборнике не написано ни слова.
Среди статей, имеющих непосредственное отношение к заявленной проблематике, следует выделить ниже следующие. Некоторые из них нуждаются в тщательном анализе, так как затрагивают принципиальные моменты, связанные с реализацией декларируемых принципов свободы совести.
Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова И.Я. Кантеров посвятил свою статью становлению и проблемам религиоведческих экспертных советов. Среди проблем он называет коллизию, "существующую между нормами закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" и отсутствием в современном теоретическом религиоведении единого подхода к пониманию природы религии и ее сущностных характеристик". Кроме того, "существенно препятствуют проведению объективной религиоведческой экспертизы всё еще сохраняющиеся рецидивы идеологизированных и политизированных суждений о религии. Проявления такого рода рецидивов порой даже не маскируются, поэтому не так сложно установить, под влиянием каких идеологических и политических установок выносилось религиоведческое экспертное заключение. Обычно в таких заключениях наличествует полный набор методологических пороков: превышение ясно сформулированной сферы компетенции религиоведческой экспертизы, подчас принимающее форму откровенной криминализации исследуемых религиозных объединений, использование при квалификации их истории вероучительной доктрины и обрядов преимущественно обличительной лексики". Известный религиовед с сожалением констатирует, что "такие "экспертизы" не являются редким исключением, и они только дискредитируют религиоведческое сообщество".
Сопредседатели Славянского правового центра А.В. Пчелинцев и В.В. Ряховский в своей статье рассмотрели целый ряд вопросов. Затронув проблему правозащитных организаций, специализирующихся в области свободы совести и вероисповеданий, они отметили, что "их не так много": Славянский правовой центр (СПЦ) и Институт религии и права (ИРП) (фактически это одна структура, принадлежащая авторам), да Евразийское отделение МАРС (в котором авторы являются членами Совета директоров).
Рассказывая о вопросах свободы совести и вероисповедания в практике Конституционного Суда РФ (КС), авторы подробно проанализировали ряд конкретных дел. Отметив, что решения КС РФ ограничивают применение некоторых дискриминационных норм ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях", А. Пчелинцев и В. Ряховский упустили некоторые детали, имеющие принципиальный характер.
Так 23 ноября 1999 года Конституционным Судом РФ рассмотрено дело о проверке конституционности абзацев третьего и четвертого пункта 3 статьи 27 ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" в связи с жалобами Религиозного общества в городе Ярославле и религиозного объединения "Христианская церковь Прославления" и вынесено постановление.
На основании данного постановления "государство вправе предусмотреть определенные преграды, с тем, чтобы не предоставлять статус религиозной организации автоматически, не допускать легализации сект, нарушающих права человека и совершающих незаконные и преступные деяния, а также воспрепятствовать миссионерской деятельности (в том числе в связи с проблемой прозелитизма), если она не совместима с уважением к свободе мысли, совести и религии других и к иным конституционным правам и свободам, а именно - сопровождается предложением материальных или социальных выгод с целью вербовки новых членов в церковь, неправомерном воздействии на людей, находящихся в нужде или бедственном положении, психологическим давлением или угрозой применения насилия и т.п.".
Фактически данным постановлением в российское правовое пространство введён ряд неправовых понятий, что на самом деле окончательно сводит на нет либеральные завоевания в сфере свободы совести, связанные с её правовым регулированием.
В целом в своих определениях и постановлении Конституционный Суд РФ избежал признания неконституционными норм, фигурирующих в жалобах и фактически подтвердил принципы лежащие в основе ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" и позволяющие властным группам контролировать религиозную сферу на предмет соответствия собственным о ней представлениям. Решения КС не препятствует религиозной дискриминации, но формально удовлетворяют конкретных заявителей, а выявленный "конституционно-правовой смысл" заменяет буквальное толкование ФЗ, не изменяя его антиконституционной сути.
Вызывает серьёзные сомнения гипотеза уважаемых авторов, что едва ли не главной причиной нарушений прав верующих и религиозной дискриминации является отсутствие религиоведческой подготовки государственных чиновников. На самом деле причиной кризиса реализации свободы совести и нарушений прав граждан в России являются не столько злоупотребления отдельных чиновников, сколько антиконституционная государственная политика и системная коррупция в отношениях государства с религиозными объединениями.
"Обучение" государственных чиновников в условиях неадекватной науки и законотворчества является весомым фактором системной коррупции. Благородное дело обучения государственных чиновников "ведающих" религиозными делами, если оно организовано идеологизированными религиоведами, адвокатами, их клиентами из числа "солидных" религиозных организаций, способствует формированию некоего рынка коррупционных услуг в рамках купли-продажи влияния.
Следует отметить, что декларации приверженности идеалам свободы совести и правам человека не всегда соответствуют реальным действиям одного из авторов. В частности, на фоне пламенной борьбы за свободу совести необычно выглядит письменная поддержка директором Института религии и права и сопредседателем Славянского правового центра А.В. Пчелинцевым идеи введения "традиционности" конфессий в правовое поле и антиконституционного проекта Концепции государственной политики в сфере отношений с религиозными объединениями в Российской Федерации (от 05.06.2001), разработанного Главным управлением юстиции Российской Федерации по г. Москве и региональной общественной организацией "Институт государственно-конфессиональных отношений и права", а также справочника "Новые религиозные организации России деструктивного, оккультного и неоязыческого характера". Этот справочник, в котором под ярлыком "деструктивные" содержится описание религиозных и иных общественных объединений, не раз применялся в качестве основания для административного произвола со стороны государственных чиновников, которым он был разослан.
Заместитель председателя Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве РФ А.Е. Себенцов посвятил свою статью противоречиям в законодательстве о свободе совести, отметив, что хотя либеральный подход и записан в Конституции РФ, проводить его в жизнь затруднительно, а поиск компромиссов приводит к очередным противоречиям.
Говоря о работе по системной подготовке изменений и дополнений в рамках Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве РФ, А.Е. Себенцов структурировал предложения об изменениях в законе, которые связаны: "во-первых с теми пробелами в законе, которые раньше не бросались в глаза, а позднее были выявлены правоприменением", "во-вторых - с противоречиями, которые были следствием компромиссов, оказавшихся неудачными" (С. 88).
В частности предполагаемые изменения касаются следующих вопросов:
понятия законодательства о свободе совести и о религиозных объединениях - "предлагается установить, что права и свободы в этой области регулируются исключительно федеральным законом, а субъекты Федерации и органы местного самоуправления могут принимать акты, касающиеся порядка реализации права" (С. 88);
привлечения малолетних к деятельности религиозного объединения - предлагается новая редакция: "привлечение малолетних детей к участию в богослужениях, религиозных обрядах, церемониях и иной деятельности религиозных объединений, а также обучение малолетних религии допускается при отсутствии возражений родителей или лиц, их заменяющих" (С. 89);
религиозных праздников - "предлагается уточнить, что нерабочими днями могут быть объявлены лишь важнейшие религиозные праздники" (С. 89);
определения религиозного объединения как добровольного объединения граждан - "новые определения понятий религиозного объединения и религиозной организации предлагаются не по схеме рода и видового отличия, а путём указания перечня видов и отличительных особенностей: объединение - группа или организация, имеющая три признака (вероисповедание, обрядность, обучение); организация (местная или централизованная) - духовное учебное заведение, иной вид, предусмотренный уставом централизованной религиозной организации" (С. 90);
религиозных групп - "родилась идея снять ограничения на регистрацию для религиозной группы, желающей оформиться как законопослушная местная религиозная организация, если её организаторы могут предоставить все, что полагается по закону... но одновременно, сохраняя ранее достигнутые компромиссы, - ограничить на срок до 15 лет после регистрации необходимость минимума местных религиозных организаций и их право образовать самостоятельную централизованную организацию" (С. 92-93);
условий создания религиозных организаций - "можно повысить количество местных религиозных организаций, при котором возникает право на создание централизованной, до десяти, сохранив для уже существующих централизованных религиозных организаций ранее установленный минимум. Но оснований для увеличения минимального состава группы для создания местной религиозной общины обсуждение не выявило" (С. 95);
наименования религиозной организации - "предлагается внести в закон поправку, дающую право отказа в регистрации религиозной организации, если её наименование вводит в заблуждение относительно вероисповедной принадлежности организации" (С. 95);
религиоведческой экспертизы - подготовлена целая статья изменений и дополнений, расширяющих её полномочия и круг решаемых вопросов (С. 96);
контроля за деятельностью религиозных объединений - проработаны "пределы полномочий контролеров и прав самой религиозной организации при проведении контрольных мероприятий" (С. 97);
налоговых льгот, положенных благотворительным организациям - "решение найдено на пути ведения раздельного учета средств и имущества, используемых в благотворительных и иных целях" (С. 98);
земельного законодательства - требуются уточнения, касающиеся "и закона о свободе совести, и Земельного кодекса... и части объектов (в действующем законе, например, не учтены монастырские комплексы), и в части обеспечения прав религиозных организаций на безвозмездное пользование земельными участками, относящимся к зданиям и сооружениям, переданным им в безвозмездное пользование" (98);
трудовых отношений - статья о трудовых отношениях в религиозных организациях не соответствует "ни Трудовому кодексу, законодательству о социальном страховании и пенсионном обеспечении" (С. 98).
Завершая тему о противоречиях в законодательстве о религиозных объединениях, А.Е. Себенцов сказал об их неизбежности, попутно затронув проблему допустимости их уровня, решение которой находится в сфере политики, "которая выходит за рамки настоящей статьи" (С. 98).
Старший преподаватель кафедры религиоведения РАГС при Президенте РФ А.И. Кырлежев сосредоточил внимание на проблемах модернизации РПЦ МП, которую понимает как социализацию в современном социокультурном аспекте, в котором церковь должна иметь дело с реальностями современного светского государства. Он предлагает преодоление бюрократических начал в церковной жизни, говоря о том, что "в определении церковной "политики" и в процессе принятия решений должны более активно участвовать клирики и миряне как полноправные члены церкви. Повышение их статуса и их роли не является "демократизацией" и не противоречит традиции... Но без этого церковь не может стать действительным сообществом, "малым социумом", в "большом обществе", т.е. субъектом социальных отношений в чаемом гражданском обществе" (С. 145).
Директор Института истории академии наук Татарстана Р.С. Хакимов преодоление ГКО, или в данном случае их составляющую в виде государственно-исламских отношений, видит в "модернизации ислама" (С. 157). Он отмечает, что "мы вынуждены вводить стандарты близкие европейским, и не можем ориентироваться на такие исламские страны как Судан, Пакистан Иран или Саудовская Аравия" (С.161), учитывая что "наши главные конкуренты находятся на Западе", делая при этом очень важный, вывод, что "религия - частное дело... из церковного действа социального феномена всё больше становится интимным духовным сугубо личностным. Люди не любят вмешательства в свою жизнь и внешнего диктата, предпочитая свободный внутренний выбор", - заключает Р.С. Хакимов.
Тем не менее, любая модернизация религии, особенно "сверху" чревата непредсказуемыми последствиями и может вызвать (и, как правило, вызывает) фундаментализм и провоцирует экстремизм. Государство должно создавать равные для всех правила игры и контролировать соблюдение Закона всеми участниками правоотношений, но не учить религии верующих, равно как и не заниматься модернизацией религий и прочими богословскими уловками.
Первый заместитель муфтия Татарстана В.М. Якупов, напротив, отстаивает "целостность "настоящего" Ислама в рамках следования мусульманской ортодоксии", традицию "мазхабического Ислама" и "позицию ханафизма" (С. 171). Соответственно он критикует "политический" ислам, "джадидизм" (обновленчество), "мечетный", "джамаатный" и прочие виды Ислама, сравнивая некоторые из них с "мусульманским" фашизмом (С. 174).
Статья зав. отделом общественной мысли и исламоведения Института истории АН РТ Р.М. Мухаметшина производит двойственное впечатление. С одной стороны её ценность состоит в характеристике религиозной ситуации и государственно-исламских отношений в Республике Татарстан (что больше подходит для сборника посвящённого религиозной ситуации в регионах России).
Вопросы вызывает методологическая часть, в которой Р.М. Мухаметшин предлагает дифференцировать собственно конфессиональную политику и оперативное управление текущими процессами в религиозной сфере, понимая под объектом конфессиональной политики всё общество в целом, а под объектом оперативного управления конфессиями - религиозные организации и институты, демонстрируя утилитарно-политический подход к религии и верующим.
Материалы помещенные в приложении (С. 219-298) имеют несомненную практическую полезность. Сборник содержит полный текст ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях", извлечения из других нормативных актов, а также некоторые новые положения, предлагаемые в Федеральный закон рабочей группой Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве РФ.
Анализ позволяет сделать следующие основные выводы, относительно методологических и методических принципов, заложенных в основу сборника "Преодолевая государственно-конфессиональные отношения":
1) Концепция сборника противоречит реализации права каждого на свободу совести и конституционным принципам, составляющих основу государственного строя.
2) Многие статьи сборника не соответствует заявленной цели и концепции.
3) При разработке концепции сборника, составители проигнорировали инновационные разработки в области свободы совести и отношений государства с религиозными объединениями.
4) Имеют место вопиющие подмены: свобода совести подменяется свободой вероисповеданий, права человека - правами объединений, религия - идеологией, приоритет права - приоритетом политики, интересами властных, конфессиональных и профессиональных корпораций.
5) Проблема обеспечения свободы совести каждому сводится к реализации конфессиональной политики посредством самодовлеющих государственно-конфессиональных отношений.
Данный сборник в принципе не может дать ответ на вопрос о путях реализации свободы совести каждому, так отсутствует адекватная постановка проблемы. Соответственно отсутствует принципиальная оценка состояния реализации свободы совести в России. В этой связи возникает вопрос о роли составителей в вышеупомянутой системе.
Возникает впечатление, что авторы-составители решали задачу легитимизации системной коррупции в контексте расширения реализации интересов "нетрадиционных" но "солидных" религиозных организаций. В этом же русле следует рассматривать и проект "Продвижение к межрелигиозному взаимопониманию и развитие диалога государства и конфессий через повышение квалификации государственных служащих" Нижегородского АНО "Приволжский гуманитарно-теологический институт" и американского "Института религии и общественной политики", информацию о котором содержит сборник.
Через "межрелигиозное взаимопонимание и развитие диалога государства и конфессий" просматривается его не явная концепция - "решение корпоративных интересов через коррупцию в государственно-конфессиональных отношениях". В пользу этой гипотезы говорит сложившаяся сегодня практика подготовки и повышения квалификации госслужащих по специальности "государственно-конфессиональные отношения", а также прошедшие в последние годы конференции и семинары. В данном контексте странно выглядит выбор партнеров американскими спонсорами.
Также непонятно, почему доминирует идея, что научное обоснование коррупции позволит государственным служащим безнаказанно "знакомиться" с "солидными" клиентами с целью решения корпоративных проблем вопреки интересам гражданского общества. В то же время нежелание "субъектов конфессиональной политики" открыто обсуждать проблемы и нестандартные подходы вполне понятно.
Переход государственно-конфессиональных отношений на новый качественный уровень в контексте приоритета гражданского общества, правового государства и прав человека на свободу совести должен быть связан с необходимостью коренной ревизии и демократической реформы принципов и понятийного аппарата в данной области.
P.S. На фоне вышеуказанных недостатков концептуального характера неточная ссылка на нашу публикацию в "Независимой газете" (Бурьянов С., Мозговой С. Предпочтения власти //Независимая газета, 27 февраля 2002 г.), принципиально искажающая позицию руководителей Института свободы совести (с. 102), выглядит сущим пустяком.
Первоначально опубликовано в журнале "Право и политика" (2004, N2).
- Главная
- Русский национализм и ксенофобия
- Неправомерный антиэкстремизм
- Религия в светском обществе
-
Завершенные проекты
-
Демократия в осаде
-
Новости
-
Архив предыдущего проекта
- Крупные мероприятия консервативного толка
- Курьезы
- Национальная идея, антивестернизм, империализм
- О странностях любви...
- Оправдания дела ЮКОСа
- Основания пересмотра приватизации
- Предложения де-либерализовать Конституцию и публичное право
- Призывы к ужесточению уголовного и уголовно-процессуального законодательства
- Символические акции
- Теории заговора
- Идеология
- Практика
-
Архив предыдущего проекта
- Публикации
- Дискуссии
-
Новости
- Язык вражды
-
Демократия в осаде