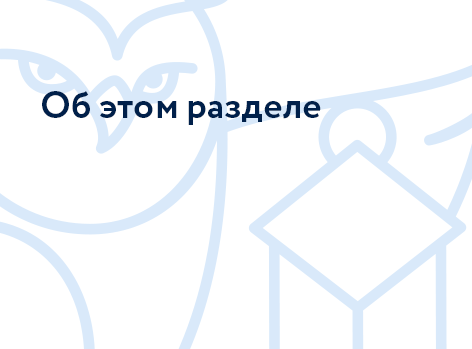Интерфакс опубликовал статью исполнительного секретаря МСР Романа Силантьева, посвященную проблемам оценки численности различных религиозных групп в России. Исходя из наличия связи между национальной и конфессиональной идентичностью и основываясь на четырех типах источников: всероссийская перепись 2002 г., опросы населения и полевые этноконфессиональные исследования, статистика Министерства юстиции РФ и наконец оценки религиозных лидеров, - Р. Силантьев делает некоторые выводы об основных тенденциях в современной религиозной жизни страны с точки зрения численности верующих.
По его мнению, "последняя перепись населения остается главным официальным источником данных об этническом составе населения России. На первый взгляд, этнический состав не имеет прямых корреляций с религиозными предпочтениями населения, однако именно он позволяет определить верхнюю планку численности приверженцев некоторых религиозных традиций - православного христианства, ислама, иудаизма, буддизма, католичества, лютеранства, меннонитства и язычества". Суть этого подхода Р. Силантьев объясняет так: "берется допущение, что, например, все поляки, литовцы, чехи, словаки, французы, треть немцев и двадцатая часть украинцев исповедуют католичество, а среди русских и других народов число католиков пренебрежительно мало. После чего подсчитывается суммарная численность так называемых "этнических католиков" и полученная цифра считается верхним пределом численности католиков в России. Конечно, любой квалифицированный религиовед или этнограф возразит, что среди российских немцев реальных католиков значительно меньше трети, равно как и многие поляки с литовцами на деле исповедуют православное христианство. Но описанный метод и не претендует на высокую точность, однако позволяет наглядно доказать, что католиков в нашей стране проживает не более 460 тысяч человек (0,3% населения)". Что касается остальных групп, то Р. Силантьев исходил из следующих соображений: "Иудеями считаются все люди, назвавшие себя евреями. Буддистами - половина бурятов, половина тувинцев, две трети калмыков и все монголы. Армяно-григорианами - все армяне. Лютеранами - половина финнов и латышей. Лютеранами и меннонитами - две трети немцев, а непосредственно меннонитами - все немцы-меннониты. Язычниками - четверть бурят, марийцев и алтайцев, половина тувинцев и до 20% малых народов Севера. Среди осетин доля мусульман принимается за 25%, а из татар вычитается 26 тысяч кряшен. Эстонцы считаются православными, а курды-езиды - приверженцами не ислама, а иезидизма".
В результате автор получил следующие "пределы численности ведущих религиозных групп нашей страны":
Православные христиане - 86,5% (ок. 126 млн.)
Мусульмане - 10% (ок. 14,5 млн.)
Армяно-григориане - 0,8% (ок. 1,1 млн.)
Язычники - 0,5% (ок. 670 тыс.)
Католики - 0,35% (ок. 480 тыс.)
Лютеране и меннониты 0,3% (ок. 430 тыс.)
Буддисты - 0,25% (ок. 380 тыс.)
Иудеи - 0,15% (230 тыс.)
Неизвестных этнических групп и не указавших национальность - 1,15% (ок. 1,5 млн.)
Социологические опросы и полевые исследования Р. Силантьев рассматривает как дополнительные методики, позволяющие корректировать результаты, которые получены описанным выше "методом "верхних пределов"". Он отмечает, что "опросы населения позволяют выявить новую группу верующих - не относящихся к лютеранам и меннонитам протестантов и членов НРД, которых оказывается больше, чем представителей многих традиционных религий", однако тут же заявляет: "Главным недостатком всех опросов населения является довольно маленькая и не совсем репрезентативная выборка, охватывающая в основном население крупных городов. Эта особенность приводит к занижению доли православных, мусульман и язычников и завышению процента буддистов (за счет нетрадиционных буддистов), протестантов, НРД и неверующих". Что касается полевых исследований, то они, по словам Р. Силантьева, "направлены преимущественно на выявление небольших религиозных групп (старообрядцев, катакомбников, традиционных язычников, скрытых групп НРД), которые выпадают из поля зрения при других методах, однако способны решить другие важные вопросы. Только полевыми исследованиями можно определить, что Татарстан - это преимущественно православная республика, что в Туве шаманизм сильно потеснил буддизм, а некогда широко распространенный в Горном Алтае бурханизм практически вымер".
Говоря о статистике зарегистрированных в Минюсте религиозных организаций, автор обращает внимание на то, "что даже в пределах одной религиозной организации общины могут различаться по размерам в десятки, а то и в сотни раз - чтобы понять это, достаточно сравнить православный приход в московском "спальном" районе и приход в вымирающей деревне. Если не принимать во внимание эту важную деталь, то реестр Минюста может ввести в серьезное заблуждение - здесь протестанты по количеству зарегистрированных общин значительно опережают мусульман, а иудеи - буддистов. Кроме того, надо учитывать, что в некоторых религиозных организациях количество зарегистрированных общин значительно превышает число реально действующих (большинство НРД, некоторые альтернативно-православные и мусульманские организации), а у других (традиционных язычников, некоторых толков старообрядчества) статус юридического лица имеют менее половины общин".
Наконец, оценки религиозных лидеров, как отмечает Р. Силантьев, пригодны "только для определения численности небольших религиозных групп, лидеры которых в состоянии точно подсчитать своих прихожан", и, к тому же, часто сильно разняться. Здесь он обращается к вопросу о численности мусульман в России. "...По данным переписи населения 2002 года, - пишет Р. Силантьев, - общая численность этнических мусульман в России не превышает 14,5 миллионов человек. Большинство мусульманских лидеров настаивают на цифре в 20 миллионов, которая была озвучена Президентом России в августе 2003 года. Наиболее политизированные муфтии приводят цифру в 25-50 миллионов человек, а многие ученые-исламоведы утверждают, что реальных приверженцев ислама в России не более 8-10 миллионов.
Давая оценку приведенным мнениям, можно заметить, что каждый их автор по-своему прав. Правы те, кто соотносит численность мусульман с суммой мусульманских народов. Правы и те, кто определяет численность мусульман в 8-10 миллионов по данным социологических опросов. Авторитет Президента России не позволяет сомневаться и в его оценках, зато цифры в 35-50 миллионов мусульман выглядят явно завышенными.
Единственным способом сгладить существующие противоречия является предположение, что в России единовременно находится до 17-19 млн. человек (что при округлении дает 20 млн.), принадлежащих к мусульманским народам". При этом Р. Силантьев подчеркивает, что, во-первых, из числа последних "многие... являются не гражданами России, а временно приехавшими на заработки жителями Средней Азии и Закавказья", а во-вторых, "что среди этнических мусульман немало неверующих и приверженцев других религий".
"Таким образом, - заявляет Р. Силантьев, - можно предположить, что до 10-15% этнических мусульман в России реально исповедуют не ислам, а христианство. Эта цифра косвенно подтверждается данными социологических опросов и выборочными исследованиями этнического состава православных и протестантских общин. Сами мусульманские лидеры также не отрицают, что тысячи татар, башкир, казахов, адыгов и кабардинцев переходят в христианство, в то время как общая численность новообращенных мусульман не превышает 3 тысяч человек. Христианизация этнических мусульман происходит не столько вследствие какой-то целенаправленной миссионерской деятельности, которую среди них ведут только протестанты, сколько под влиянием русской культуры, имеющей ярко выраженные христианские корни. Ассимиляция этнических и религиозных меньшинств является неизбежным процессом в любом обществе, а в России она еще и ускоряется за счет негативного образа ислама, создаваемого средствами массовой информации.
Процент неверующих среди этнических мусульман за счет высокорелигиозных кавказских и среднеазиатских народов определенно ниже, чем у народов христианской культуры, однако и здесь он вряд ли меньше 10%. Следовательно, суммарно от 20 до 30% людей мусульманской культуры в действительности себя мусульманами не считают, что необходимо учитывать при оценке размеров исламского сообщества нашей страны".
В итоге Р. Силантьев приходит к следующим выводам:
1. Доля верующих в населении России постепенно растет, доля индифферентных и неверующих, соответственно, уменьшается. С одной стороны, все больше людей возвращается в лоно традиционных религий, а с другой - число материалистов уменьшает активная пропаганда эзотерики и мистики. Количество убежденных атеистов, наиболее активные из которых объединены в сектоподобные ассоциации, сейчас ничтожно мало.
2. Высокая рождаемость у северокавказских мусульманских народов и активная иммиграция мусульман из Средней Азии и Закавказья во многом компенсируются русификацией и христианизацией большинства детей от смешанных браков; массовым переходом в христианство татар, башкир, казахов; адыгов и целого ряда других народов, а также постепенно увеличивающейся рождаемостью у этнически православных народов. Поэтому в ближайшее время вряд ли можно ожидать существенного увеличения доли истинных мусульман, хотя доля этнических мусульман, конечно, будет расти.
3. По сравнению с 1989 годом значительно сократилось и продолжает сокращаться количество католиков, лютеран и меннонитов, в первую очередь - за счет активной эмиграции немцев и продолжающейся русификации поляков и литовцев. Прозелитическая миссия российских католиков, призванная хоть частично сохранить их позиции, заметными успехами не увенчалось - вряд ли сейчас община "русских католиков" насчитывает больше 10 тысяч человек.
4. Рост численности баптистов, адвентистов, евангельских христиан и других нехаризматических протестантов приостановился. Все более заметным становится отток их прихожан в харизматические группы, многие протестанты возвращаются в лоно Русской Православной Церкви. Практически исчерпаны резервы роста у мормонов, мунитов, сайентологов, кришнаитов и большинства других новых религиозных групп - их адресный контингент выработан, миссионерские методы устарели, а недобрая слава не позволяет эффективно использовать накопленные богатства. Относительно высокие темпы прироста сохраняют лишь Свидетели Иеговы и неохаризматы, однако их ряды пополняются в основном за счет неверующих и баптистов с адвентистами.
5. Доля иудеев и традиционных буддистов падает. Сильное сокращение численности иудеев связано в первую очередь с продолжающей эмиграцией и ассимиляцией евреев, а народы буддийской культуры переживают интенсивную христианизацию (в основном силами маргинальных протестантов) и экспансию шаманизма.
6. Доля традиционных язычников медленно растет, в то время как старообрядцы, истинно-православные христиане и сторонники других неканонических православных юрисдикций постепенно теряют свои позиции.
- Главная
- Русский национализм и ксенофобия
- Неправомерный антиэкстремизм
- Религия в светском обществе
-
Завершенные проекты
-
Демократия в осаде
-
Новости
-
Архив предыдущего проекта
- Крупные мероприятия консервативного толка
- Курьезы
- Национальная идея, антивестернизм, империализм
- О странностях любви...
- Оправдания дела ЮКОСа
- Основания пересмотра приватизации
- Предложения де-либерализовать Конституцию и публичное право
- Призывы к ужесточению уголовного и уголовно-процессуального законодательства
- Символические акции
- Теории заговора
- Идеология
- Практика
-
Архив предыдущего проекта
- Публикации
- Дискуссии
-
Новости
- Язык вражды
-
Демократия в осаде