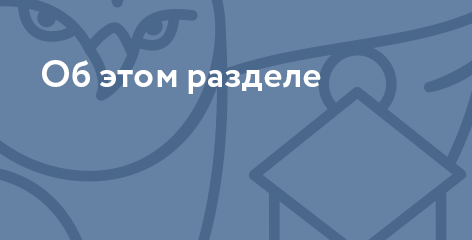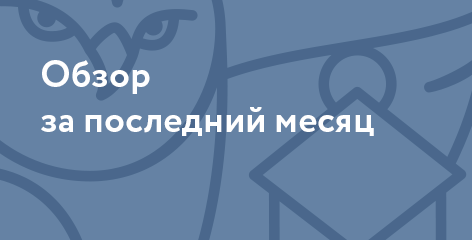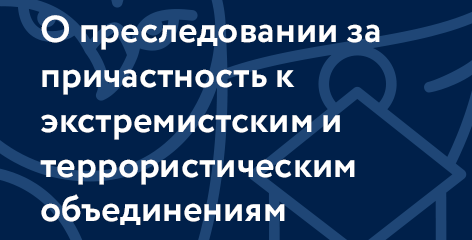Мы публикуем статью Александра Верховского, вышедшую в журнале "Государство, религия, церковь в России и за рубежом" (№2, 2013).
В сфере приложения права к отношениям, так или иначе связанным с религией, в последние годы больше всего бросаются в глаза те дела, которые связаны с применением антиэкстремистского законодательства, то есть закона «О противодействии экстремистской деятельности» и связанных с ним норм Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях. Конечно, во многом это связано просто с тем, что понятие «экстремизм» притягательно для масс-медиа, с тем, что уголовный процесс – он самый интересный, и тому подобными обстоятельствами, но все же не только с ними. В последние годы именно на антиэкстремистское законодательство приходится основной объем собственно репрессивных действий государства в сфере, связанной с религией, то есть действий, где власть проводит жесткую границу допустимого. А поскольку эта жесткая граница строится быстро и часто неожиданно, это не может не привлекать внимание.
I. Как это начиналось
Для российской жизни 90-х годов был характерен именно дефицит жестких границ допустимого, это относилось и к той сфере, которую традиционно связывали с понятием «экстремизм». Например, демократическая общественность на протяжении всего того десятилетия жаловалась на то, что правоохранительные органы не пресекают явно подстрекательскую пропаганду разного рода радикалов, включая неонацистов, и действительно, давление на такие группы было весьма незначительным[1].
Но в то время, когда одни были озабочены подъемом ультраправого движения, другие были не меньше озабочены наступлением новых религиозных движений (НРД), которые уже тогда стали называть «тоталитарными сектами». В новом веке, когда российские ультраправые известны в основном многочисленными насильственными преступлениями, трудно вспомнить, что в то время их боялись не поэтому: преступлений таких было многократно меньше, и опасения были связаны с угрозой «фашизации общества», то есть, если более конкретно, – с угрозой дурного влияния на часть граждан, особенно – молодых, и угрозой радикального изменения общества и государства в целом (сценарий «веймарской России»). Как ни странно, страх перед НРД можно было описать так же: опасались их дурного влияния на сограждан («зомбирование», мошенничество с имуществом, семейные кризисы и т.д.) и изменения всего уклада общественной жизни под влиянием новых и неприемлемых идей[2]. Дискуссии того времени во многом заходили в тупик именно из-за того, что две совершенно разные угрозы (вне зависимости от того, как оценивать адекватность их восприятия) предлагалось устранять как одну.
В те времена никто, однако, не называл «тоталитарные секты» экстремистами, это слово было зарезервировано за крайними формами только политической деятельности. «Исламская компонента», которая сейчас чаще всего ассоциируется со словосочетанием «религиозный экстремизм», возникла не сразу и росла очень медленно. Первая война в Чечне обеими сторонами лишь в очень малой степени понималась как религиозная[3], другие радикальные мусульманские группы (например, Исламская партия возрождения) были малозаметны, «радикальный ислам» - это было что-то про Афганистан и Таджикистан, но не про Россию.
Но по мере того, как активность НРД снижалась, а в «республике Ичкерии» становились все заметнее не сепаратисты, а крайние исламисты, ситуация стала меняться. Крайние формы политического ислама вышли на авансцену с началом второй чеченской войны, а окончательно превратились в почти синоним «религиозного экстремизма» в глазах общественного мнения после теракта 11 сентября 2001 года.
Еще в 1998 году, когда Фонд «ИНДЕМ» по заказу администрации президента Ельцина готовил доклад «О целях и средствах противодействия политическому экстремизму в России» религиозный фактор в политическом экстремизме в нем никак отдельно не обсуждался[4]. А вот Владимир Путин уже в бытность свою премьер-министром, рассматривая возможность создания специального органа по делам религий, увязывал, это в том числе и с проблематикой «религиозного экстремизма»[5].
Понятие «религиозный экстремизм» на рубеже десятилетий активно продвигалось в законодательство, но эти попытки не увенчались успехом, как и все проекты в этой сфере, разработанные в ельцинское время[6], а вместо того летом 2002 года был принят ныне действующий закон «О противодействии экстремистской деятельности», о котором речь пойдет далее. Некоторой запоздалой попыткой наверстать упущенное была деятельность Рабочей группы президиума Государственного совета РФ по вопросам противодействия проявлениям религиозного экстремизма в Российской Федерации. Возглавил группу Ахмад Кадыров, его заместителями стали Владимир Зорин и первый заместитель начальника Главного управления внутренней политики Президента Сергей Абрамов. Уже по персоне Кадырова можно было предположить, что главным объектом внимания группы будут радикальные исламистские группировки, но ограничиться ими группа не могла. Просочившийся в СМИ черновик концептуального документа рабочей группы[7] ясно показал, что она попыталась объединить рамкой «религиозного экстремизма» сразу и радикальных исламистов, и «тоталитарные секты». К последним были отнесены даже и пятидесятники. Впрочем, группа позже была распущена, и понятие «религиозный экстремизм» осталось исключительно разговорным, а правовое значение с тех пор имеют только формулировки упомянутого выше закона.
II. Антиэкстремистский закон – в чем основные проблемы
Определение экстремизма в законе
Закон «О противодействии экстремистской деятельности», рамочный по сути, не содержит концептуального определения предмета противодействия. Вместо этого такая деятельность (закон полагает ее синонимом экстремизма) определяется через список разнородных деяний от попытки государственного переворота до рисования свастики на заборе. Такой список не производит ни на кого впечатления целостного, его можно легко менять, что уже и происходило дважды, в 2006 и 2007 годах.
Подразумевается, очевидно, что концептуальное определение основного понятия существует в обыденном, газетном или научном языке или хотя бы в юриспруденции. Если бы это было так, особых проблем с определением в законе могло бы и не возникнуть: в законодательстве ведь используется множество понятий, которым не дается определение, но есть устойчивое понимание их границ, а пограничные проблемы немногочисленны и могут разрешаться в судебной практике; наиболее очевидный пример – убийство. Но слово «экстремизм» не обладает никаким сколько-нибудь общепризнанным значением ни в каком широко распространенном дискурсе (хотя в небольших группах такое значение вполне может сформироваться).
Когда политические и государственные деятели, руководители правоохранительных ведомств рассуждают о «противодействии экстремизму», они приводят примеры, и чаще всего примеры эти относятся к действиям насильственным, среди которых определенно выделяются преступления по мотиву ненависти, известные в международной юриспруденции как hate crimes, но нередки также упоминания терроризма, сепаратистского мятежа и т.д., а также публичное подстрекательство к подобным действиям или их финансирование. Но определение, данное в законе, этим далеко не исчерпывается.
Приведем лишь некоторые, наиболее актуальные для темы этой статьи, пункты определения, причем только религиозный их аспект:
1. «возбуждение религиозной розни,
2. пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его религиозной принадлежности или отношения к религии,
3. нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его религиозной принадлежности или отношения к религии,
4. совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации (к ним относятся и любые преступления, совершенные по мотиву религиозной ненависти – А.В.),
5. публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения».
Совершенно ясно, что пункты 3 и 4 этого определения отсылают к деяниям, которые повсеместно считаются противозаконными. Пункт 3 копирует состав статьи «Дискриминация» в УК. С декабря 2011 года не квалифицированный состав этой статьи перенесен в КоАП, но суть дела и в теории, и на практике от этого не сильно изменилась: дискриминация – действие бесспорно противозаконное, но наказание за него практически никогда не наступает. Пункт 4 отсылает к достаточно уже общепринятому понятию «преступлений ненависти» (hate crimes). Это понятие даже хорошо усвоено уже российской правоприменительной практикой, хотя преступлений по мотиву именно религиозной ненависти фиксируется очень мало по сравнению с валом преступлений по мотиву ненависти расовой и этнической[8].
Публичные призывы к экстремистской деятельности образуют состав ст. 280 УК, и осмысленность ее применения явным образом зависит от того, к насколько опасной деятельности призывал обвиняемый. Таким образом, проблемы, связанные с применением этой статьи, это, как правило, - отражение проблем самого определения экстремизма, что позволяет не рассматривать здесь отдельно практику по ст. 280 УК, и перейти к наиболее проблематичным двум первым пунктам приведенного фрагмента определения.
Границы «возбуждения розни»
Важно понимать, что экстремистская деятельность – не всегда уголовное преступление. В частности, определение включает деяния, похожие по описанию на криминальные, но вне контекста УК понимаемые шире, чем криминальные, так как в данном случае отсутствует ключевой для уголовного преступления признак особой общественной опасности. Это относится, например, к такому важному пункту определения, как «возбуждение религиозной розни». Таким образом, этому пункту соответствуют как уголовные преступления, описываемые в ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды к людям или группам лиц или унижение достоинства людей по ряду признаков, включая отношение к религии), так и сходные, но не уголовные деяния[9]; так что, например, газета может быть закрыта за публикацию, автор которой не будет привлечен при этом к уголовной ответственности.
Само понятие религиозной и тому подобной «розни» скопировано из текста Конституции (оно существовало в советском праве и ранее, в ст. 74 УК РСФСР, предшественнице ст. 282 УК РФ), но использование его без достаточных ограничений чревато чрезмерным ограничением свободы слова и других свобод. Ведь «рознь» – гораздо более широкое понятие, чем «ненависть» или «вражда», и она может быть возбуждена как косвенное следствие каких-то действий или высказываний, которые, быть может, не были на нее направлены и вообще не имели антиобщественной направленности. Человек не должен нести ответственность за отдаленные, тем более – за гипотетические последствия, как предполагает эта формулировка. Сама эта проблема не нова для правосудия, и то решение, которое предлагает закон «О противодействии экстремистской деятельности», противоречит решению, предлагаемому в практике Европейского суда по правам человека. Наказание только за высказывания, которые могут вызвать рознь, но не возбуждают ненависть и не призывают к незаконным действиям, противоречит ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (см. например, дело «Джейлан против Турции», 1999). Но такое наказание противоречит и основам российского права, так как в деле должно быть рассмотрено наличие виновного умысла. Умысел может быть, конечно, не прямой, но нельзя и возложить на человека или организацию ответственность за последствия, которые даже не предполагались.
Еще большее недоумение вызывает второй из приведенных выше пунктов, о «религиозном превосходстве». Какого рода превосходство считается предосудительным пропагандировать, закон не проясняет никак. Таким образом, не исключено понимание этого превосходства в собственно религиозных терминах: не «последователи религии Х – идиоты или мошенники», а, например, «наши единоверцы спасутся, а остальные погибнут в адском пламени». Можно было бы рассчитывать, что правоприменение будет избегать принимать религиозную интерпретацию неравенства, но обширная практика последних лет показала, что рассчитывать на это как раз нельзя.
В совокупности эти пункты могут также пониматься и так, что религиозная критика – в адрес той или иной веры или религиозной организации, как с позиций другой веры (включая полемику внутри одной религии), так и с внерелигиозных позиций, – тоже возбуждает рознь и утверждает чье-то превосходство, то есть является экстремистской. Большое количество случаев, когда правоприменение именно так и понимало религиозную полемику, побудило Верховный суд РФ в своем постановлении от 28 июня 2011 г. сформулировать четкую правовую позицию:
«Под действиями, направленными на возбуждение ненависти либо вражды, следует понимать, в частности, высказывания, обосновывающие и (или) утверждающие необходимость геноцида, массовых репрессий, депортаций, совершения иных противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении представителей какой-либо нации, расы, приверженцев той или иной религии и других групп лиц. Критика политических организаций, идеологических и религиозных объединений, политических, идеологических или религиозных убеждений, национальных или религиозных обычаев сама по себе не должна рассматриваться как действие, направленное на возбуждение ненависти или вражды»[10].
Конечно, обороты «в частности» и «в том числе» ослабляют тезис Верховного суда, но все он ясно дал понять, что предпочтительно понимать под возбуждением ненависти. И уж совсем определенно здесь сказано, что понимать таким образом нельзя.
Правда, надо иметь ввиду, что рассматриваемое постановление напрямую относится только к уголовному правоприменению, а не к гражданским делам, включая запреты экстремистских «информационных материалов» и запрет деятельности организаций как экстремистских.
Чтобы не приводить примеров решений судов в «глубинке», то есть в ситуации, когда возникает соблазн обвинить прокуроров и судей в некомпетентности, укажем именно на решение самого Верховного суда, принятое за полтора года до июньского пленума 2011 года. 8 декабря 2009 г. Верховный суд утвердил решение о запрете таганрогской организации Свидетелей Иеговы, то есть подтвердил признание организации экстремистской исключительно на основании того, что в ряде текстов Свидетелей Иеговы утверждалось превосходство их веры, содержалась критика других религий и религиозных организаций, а также пропагандировался запрет переливания крови, который, как бы к нему ни относиться, не имеет совсем уж никакого отношения к определению экстремистской деятельности[11].
Таким образом, на сегодняшний день можно было бы предполагать, что жесткие ограничения понимания концепции «возбуждения вражды», установленные Верховным Судом в 2011 году, пусть и нарушались ранее[12], но все же действуют хотя бы в сфере уголовного правоприменения. Например, в 2012 году в Забайкалье Свидетели Иеговы супруги Раитины были осуждены по ст. 282 УК за распространение запрещенных за экстремизм текстов своей религиозной организации, но позже Забайкальский краевой суд отменил приговор Читинского районного суда и признал за Раитиными право на реабилитацию[13]. Возможно, тот факт, что в отношении Pussy Riot было выдвинуто обвинение в хулиганстве, а не в возбуждении ненависти, - тоже заслуга того постановления Верховного суда. Но при этом сама логика приговора участницам Pussy Riot полностью противоречит постановлению: критика в адрес религиозной организации (пусть и грубая по форме) выдается в приговоре за проявление ненависти к православным людям[14]. Таким образом, можно сказать, что разъяснения Верховного суда не смогли переломить сложившуюся практику правоприменения. Да и трудно это сделать, не меняя собственно законодательства, дающего слишком много оснований для превратных интерпретаций.
Механизм запрета текстов
За пределами уголовного правоприменения наиболее проблематичным механизмом является механизм запрета «информационных материалов», то есть любых книг, изображений, видео- и аудио-записей, файлов в компьютерах любого формата, страниц и сайтов в интернете, листовок и т.д. Этот механизм, в отличие от других элементов антиэкстремистского законодательства, уникален на пространстве Совета Европы, да и во всем мире найдется не так много аналогов. Причина уникальности вовсе не в том, например, что «демократия не позволяет запрещать книги»: позволяет же она сажать в тюрьму авторов иных книг. Причина уникальности этого инструмента в том, что он в принципе не может работать при нормальном правоприменении и потому не используется в странах, в которых к судопроизводству относятся всерьез.
Такое категоричное заявление требует пояснения. Тем более, что в России многие люди, выступающие в целом за весьма широкие границы свободы слова, одобряют тем не менее данный механизм. В сущности, он был придуман как мягкий паллиатив уголовного преследования по уже упомянутым статьям 280 и 282 УК, да еще ст. 205-2 (публичное оправдание терроризма): закон предусматривает только административное наказание за распространение запрещенных материалов, и то – только за массовое. Проблема – в идентификации «информационного материала». В суде рассматривается конкретный его образец. Самый простой пример – книга. Если это другое издание той же книги, то нет априорной уверенности, что она столь же вредоносна, и следовательно, всю процедуру доказывания надо проводить сначала (строго говоря, даже если издание, вроде бы, то же, не столь очевидно, что идентичны экземпляры: а вдруг там вырваны или вклеены страницы). Так несколько раз независимо друг от друга запрещались разные (а иногда – и те же самые) издания известной неоязыческой и антисемитской книжки «Удар русских богов». Известен также случай, когда книга была признана отличной от ранее запрещенной, что и спасло издателя от наказания, хотя отличалась книга только предисловием[15]. Таким образом, упорный издатель может бесконечно долго бороться с запретами одной и той же книги. Но если для издателя темпы переиздания и темпы запрещения изданного хотя бы сопоставимы, то для автора листовки, или плаката, или рисунка возможности варьирования тоже довольно велики, а по скорости производства он многократно обгонит правоприменительную систему. И уж само собой, совершенно безнадежна попытка таким образом искоренить какой-то материал в интернете, если его создатели или их сторонники обладают хотя бы минимальным упорством; из недавних примеров – жалкие попытки искоренить не менее жалкий фильм «Невинность мусульман»[16]. Таким образом, механизм запрета может остановить распространение только тех материалов, которые не очень стремятся распространять. Но нужен ли тогда такой механизм?
При этом в Федеральном списке множество ошибок, большинство материалов не поддаются идентификации на основании приведенного описания, да, наконец, и сама длина списка – на момент написания это статьи уже почти 1900 пунктов – делает совершенно невозможным его использование гражданами как источника знания о том, что именно нельзя распространять.
Сама по себе массовость практики запретов материалов с неизбежностью провоцирует решения, мягко говоря, непродуманные. Их гораздо больше, чем запретов, которые легче счесть злонамеренно неправомерными, но от отсутствия злонамеренности никому не легче. Сложившаяся практика такова: чаще всего некие материалы изымаются на обыске или в рамках какой-то оперативной работы, сотрудники прокуратуры отдают их на просмотр экспертам (чаще всего – ведомственным, но часто - работающим в местном университете или где-то еще), потом подают заявление в суд, и суд это заявление удовлетворяет прямо списком. Кстати, часто совершенно неправомерно используется упрощенный порядок судопроизводства, когда суд рассматривает признание материалов экстремистским не как спор о праве, а как установление факта[17], что радикально упрощает работу суда и лишает его шансов на разумное решение.
Чаще всего от этой практики страдают мусульмане, так как суды запрещают изымаемую мусульманскую литературу тоже списками, даже не выделяя те тексты, которые специфичны для какой-то конкретной группы, по которой велось дело. Отсюда – запрет множества распространенных учебников, сборников хадисов, трактатов средневековых суфиев и так далее[18].
Экспертиза в делах об экстремизме
Очень часто приходится читать, что корень проблемы – в низком качестве привлекаемой экспертизы, и во многом это верно[19]. Но почему-то при этом упускается из виду, что правосудие творят все же не эксперты. Более того, сложившаяся практика просто радикально разошлась с действующим законодательством, да и со здравым смыслом, и создали эту ситуацию не эксперты, хотя некоторые из них такому развитию событий способствовали. Итак, в чем же это радикальное расхождение?
Экспертиза – это привлечение специального знания, потребное и допустимое в тех случаях, когда оно необходимо. Но экспертиза не может заменить собственно правового вывода. Например, в деле об убийстве экспертиза может идентифицировать пистолет и отпечатки пальцев на нем, но сам факт, что гражданин А застрелил гражданина Б устанавливают не эксперты, а следствие и суд. По закону никто не имеет права даже спрашивать экспертов о том, кто кого застрелил. И это логично: эксперты ограничены сферой своей профессиональной компетенции, а право – стопроцентная прерогатива правоохранительных органов и суда, эксперт-юрист – это нонсенс (хотя в практике и такое встречается).
Когда-то эти простые правила действовали и в сфере, охватываемой антиэкстремистским законодательством. Но туманность определения экстремизма[20], очевидно, провоцирует всех правоприменителей переложить ответственность на какого-то другого. Поэтому в последние пять и даже более лет во всех делах о запрете материалов, во всех делах о запрете организаций, во всех уголовных делах по «пропагандистским» статьям УК и даже чуть ли не во всех делах о насильственных преступлениях по мотиву ненависти систематически используется привлечение академических или ведомственных экспертов. Суды просто уже не принимают дела без экспертизы.
Экспертное мнение запрашивается в массе случаев, когда смысл послания, подлежащего анализу, вполне понятен среднему человеку и, следовательно, должен быть понятен следователю и судье. И тогда экспертиза, объективно, не нужна.
Очень часто к экспертам даже нет собственно специальных вопросов, но есть желание получить у них подтверждение, что анализируемое высказывание в той или иной степени соответствует определению экстремизма. Для этого экспертам задают вопросы, так или иначе перефразирующие это определение, состав ст. 282 УК и т.д. Эта практика, как уже говорилось, противозаконна, на что снова указал Верховный суд в цитировавшемся постановлении 2011 года, но в этой своей части постановление не возымело вообще никакого действия.
Таким образом, чаще всего экспертизу в «экстремистских делах» вовсе не следовало бы проводить. Если, например, речь идет о публичном подстрекательстве к каким-то противозаконным действиям, о возбуждении ненависти к какой-то группе, то это публичное подстрекательство должно быть по крайней мере понятно своей целевой группе. Обычно эта целевая группа – средние граждане, так что сотрудники правоохранительных органов могут понять призыв и сами; а если не могут, значит, этот призыв заведомо неэффективен, и, следовательно, не представляет общественной опасности, и скрытые для обычных граждан смыслы, которые найдут эксперты, не имеют значения для дела.
Но бывают случаи, когда целевая группа является специфической и пользуется тем или иным субкультурным сленгом и/или обладает каким-то специфическим знанием, к которому может адресоваться автор рассматриваемого в деле текста. Обычно это – какая-то религиозная или религиозно-политическая группа, но могут быть и иные группы – панки-анархисты, например. Тогда, действительно, следователь и судья просто не могут сами понять текст так же, как его понимает целевая группа, им нужен своего рода переводчик, в процессуальном смысле – эксперт или специалист. Но этот «переводчик» должен быть не просто гуманитарием того или иного профиля, а специалистом по конкретному специфическому сленгу, учению, субкультуре. Причем, специалист нужен, если не вовсе идеально нейтральный (таких найти почти невозможно), то хотя бы не имеющий априори очевидной позиции (например, в не завершенном еще на момент написания статьи челябинском процессе активистов исламистской партии «Хизб ут-Тахрир» религиоведческую экспертизу делали несколько «официальных» имамов). Увы, на практике такие узкие специалисты привлекаются крайне редко, да просто практически никогда, просто потому что система подбора экспертов ориентирована совершенно не на описанную модель экспертной работы.
III. Что движет современной антиэкстремистской политикой в России?
Антиэкстремистское законодательство касается далеко не только религии. И основной объем правоприменения касается насильственных расистских преступлений и соответствующей брутальной расистской пропаганды. Зато если обратиться к тем случаям, когда правоприменение шло явно вразрез с основными гарантиями гражданских прав и свобод, да даже и вразрез с буквой антиэкстремистского законодательства, как бы оно ни было неудачно сформулировано, то большая часть такого правоприменения все последние годы (может быть, за вычетом 2012 года, и то это спорно) связана именно с религией[21].
В соответствии с написанным выше о двойственной природе российского понимания «религиозного экстремизма», в основном это решения по делам, касающимся мусульман, но много решений по делам, касающимся новых религиозных движений (прежде всего – Свидетелей Иеговы). Страдают и другие религиозные течения, в том числе порой – и ориентирующиеся на Московский патриархат православные, если вспомнить дело о запрете лозунга «Православие или смерть». Страдают также и те, кто не выступает от имени какого-то религиозного направления, но, напротив, критикует в той или иной, обычно – резкой, форме какое-то из них, точнее - какую-то религиозную организацию (дело блоггера Максима Ефимова, неприязненно высказавшегося о клире Русской православной церкви[22]) или даже верующих в целом (дело журналиста Бориса Образцова[23]). Можно ли усмотреть в этом правоприменении какую-то закономерность?
Здесь необходимо сразу оговориться, что такого рода правоприменение и не может быть полностью закономерным. Нечеткость закона в сочетании с постоянно звучащими призывами усилить борьбу с экстремизмом побуждает тех сотрудников правоохранительных органов, которые не умеют или не хотят искать действительно опасные группы, искать «экстремистов» где угодно. Могут также срабатывать какие-то личные антипатии тех или иных чиновников (подозреваю, что именно так возникло странное и нетипичное дело о запрете «Бхагават-Гиты как она есть», к счастью, провалившееся). Таким образом возбуждаются совершенно неожиданные дела, и этот информационный шум мешает улавливать закономерность. Впрочем, ее можно заметить, если обратиться к хотя бы наиболее настойчиво повторяющимся элементам правоприменения. Тогда можно будет увидеть, хотя бы отчасти, предварительно, кто, как и почему пользуется низким качеством законодательства в целях ограничения свободы совести и связанных с ней прав и свобод.
Логика правоохранительных органов
Несомненно, первой и до сих пор самой мощной тенденцией в «околорелигиозном» антиэкстремистском правоприменении является та, что ориентирована в принципе против крайних форм политического ислама. Реальность угрозы общественной безопасности здесь очевидна, но, к сожалению, с самого начала правоприменение решило отталкиваться именно от «очевидности», а не опираться на обычную процедуру.
Уже 14 февраля 2003 г. Верховный суд одним решением запретил 15 мусульманских организаций, начиная с «аль-Каиды» как террористические. Это решение несколько лет не публиковалось, а когда было опубликовано, в нем не обнаружилось практически никаких обычных для судебных решений оснований для запрета этих организаций[24]. На каждую организацию там приходится по одному-два абзаца без каких-либо ссылок на факты и тем более на их источники. Фактически Верховный суд транслировал точку зрения спецслужб, не приводя для общества никаких доказательств. И с тех пор ситуация не улучшилась: говоря о радикальных исламистских группировках общество вынуждено, как правило, выбирать между информацией спецслужб и информацией сторонников этих группировок, нейтральный же анализ почти не задействован.
Разумеется, никто не сомневается, что «аль-Каида» или египетский «Аль-Джихад» - террористические группировки. Что не должно, однако, избавлять суд от необходимости обосновывать свои решения. Но вот, например, запрещенная тогда же исламистская партия «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - она действительно выступает за создание халифата, в котором будут полностью отсутствовать демократические права и свободы и который будет вести агрессивную войну, и потому ее деятельность направлена против основ конституционного строя России. К тому же она сопровождается зачастую проповедью нетерпимости и антисемитизма[25]. Но зато можно определенно сказать, что «Хизб ут-Тахрир» не вовлечена ни в какие террористические действия, не готовит их и даже к ним не призывает: это ее стратегия. Запрет этой партии как террористической породил огромное количество дел против ее реальных или предполагаемых членов, но не остановил ее распространение в России, а главное, - не позволяет теперь всерьез расследовать реальную деятельность этой партии, которая все более заметна в самых разных регионах страны. Таким образом, неряшливость решения Верховного суда породила, с одной стороны, целую вереницу спорных дел, а с другой стороны, лишило общество, а отчасти и само государство, возможности эффективно противодействовать антиконституционной пропаганде.
Между тем, круг подозреваемых мусульманских групп и течений расширялся. Не вдаваясь в перипетии этого процесса, отметим еще только одну его ключевую веху – масштабную кампанию против последователей суфийского учителя Саида Нурси, включающую многочисленные запреты его сочинений, преследования за их распространения, а главное – запрет Верховным судом организации «Нурджулар» как экстремистской и целой вереницей последующих уголовных дел против ее предполагаемых членов[26]. Между тем, никаких следов существования такой организации в России никто так и не увидел, кроме все тех же спецслужб, а ее «члены» - это просто люди, с особым пиететом относящиеся к наследию Нурси, который, кстати сказать, хотя и был жестким оппонентом ультра-секулярного режима Ататюрка, не призывал к насилию, и сейчас его труды и деятельность его последователей в Турции не запрещены. Преследование последователей Нурси не имеет, в отличие от преследования последователей «Хизб ут-Тахрир», не только полноценных, но и каких-то правовых оснований, помимо нелепых обвинений текстов Нурси в пропаганде исключительности ислама и тому подобных вещах. Зато можно усмотреть связь этой странной репрессивной кампании с конспирологическими представлениями о могущественной «империи» виднейшего ныне последователя Нурси – Фетхуллы Гюлена[27].
Таким образом, важнейшим источником неразумного или вовсе неправомерного применения антиэкстремистского законодательства является деятельность спецслужб и острый недостаток обсуждения этой деятельности по существу и в экспертном сообществе, и в обществе в целом. Но нельзя, конечно, сводить проблему к репрессивным инстинктам правоохранительных органов.
Логика стихийных защитников секуляризма
Переходя к следующему источнику «неправомерного антиэкстремизма», отметим, что и в самих этих органах, и в обществе в целом широко распространено непонимание того, как думают и как воспринимают люди, погруженные в религию. Чтение их текстов глазами человека, от религии далекого и не желающего (или просто не могущего) понять такие тексты, дает воистину поразительные результаты. Мы их часто видим в заключениях экспертов, но дело, повторюсь, не именно в экспертах, а в том, что их ход мысли отнюдь не уникален. Если эксперт, а за ним прокурор и судья (да еще и не один), думают, что лозунг «Православие или смерть!» надо понимать как призыв типа «жизнь или кошелек!», это значит, что они не только сами не способны иначе этот лозунг прочесть, но и неспособны услышать разъяснения другой стороны.
А ведь это речь идет о лозунге православном, что уж говорить об отношении к религиозным текстам тех или иных меньшинств. Например, запрещая книгу Саида Нурси «Десятое слово о воскресении из мертвых» красноярский суд усмотрел призыв к насилию в самом сравнении верующих с армией. А в Краснодаре эксперт по делу Свидетелей Иеговы усмотрел призыв к насилию в пророчестве о Страшном суде. Впрочем, цитировать образцы полнейшего неприятия экспертами религиозного текста можно практически бесконечно.
Можно даже предположить, что кампании давления на те или иные религиозные течения фактически стремятся искоренить собственно религиозную составляющую из жизни соответствующих организаций и ориентирующихся на них граждан. Об этом еще в 2006 году писал на примере мусульманских групп Анатолий Пчелинцев[28]. Конечно, такую задачу никто публично не провозглашает, да, скорее всего, мало кто ее вообще так продумывает, но необычные на взгляд людей, от религиозной жизни далеких, проявления религиозного не могут не вызывать подозрительности, и антиэкстремистские кампании против некоторых течений показывают, как эта подозрительность реализуется.
Логика защитников «традиционности»
Подозрительность может быть основана и не на подспудном отвержении «слишком активной» религиозности, а на отвержении какой-то конкретной религии или, даже проще, на отвержении оппонентов того религиозного течения, к которому принадлежит или которому симпатизирует участник следствия и судебного дела. Например, в делах о реальных или предполагаемых исламских радикалах часто задействована позиция представителей или открытых сторонников официальных духовных управлений. Выше уже приводился один пример с привлечением таких имамов в качестве экспертов-религиоведов, но разные формы альянса правоохранительных органов с духовными управлениями многочисленны. В самом по себе сотрудничестве между ними нет, разумеется, ничего дурного, как и в любом сотрудничестве властей с общественными силами. Но конкретная вероисповедная позиция религиозных деятелей не должна бы некритически приниматься представителями государства, а именно это и происходит уже много лет.
Распространенная теория, что политическая радикализация ислама в России является продуктом «религиозного импорта» не лишена оснований и из нее делается естественный вывод о необходимости поддержки «традиционного ислама». Этот вывод сам по себе нуждается в обсуждении, но нам здесь интересен другой вывод, парный ему, - что надо запретить сам «религиозный импорт». Но как же это сделать? Например, давний дагестанский закон о запрете ваххабизма давно показал свою полную неприменимость. И вот в Татарстане в 2012 году был принят региональный закон, который устанавливает обязательность только российского религиозного образования для священнослужителей (или иностранного, если дипломы «признаны в установленном порядке», что не так просто)[29]. Более того, Государственная Дума в 22 февраля 2013 г. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который дает региональным властям право «устанавливать требования к религиозному образованию служителей и религиозного персонала». То есть татарстанская практика начнет скоро распространяться. Цель таких законов очевидна – выдавить из религиозных организаций имамов, получивших образование в арабских странах, среди которых чаще встречаются сторонники радикального политического ислама. При этом законодатель готов пренебречь тем, что диплом «Аль-Азхара» или иного арабского университета – это отнюдь не удостоверение экстремиста. Законодатель оказался готов забыть заодно и о многих других религиозных организациях, у которых вообще нет и пока просто не может быть священнослужителей, получивших религиозное образование в России. Попросту говоря, законодатель готов на любое манипулирование религиозным пространством во имя безопасности.
И дело не только в собственно религиозных организациях. Вполне секулярные специалисты могут трансформировать межконфессиональный спор в обвинение в экстремизме. Хорошим примером может послужить экспертное заключение, подготовленное в криминалистической лаборатории УФСБ по Свердловской области на ряд текстов Свидетелей Иеговы[30] и послужившее основанием сразу для нескольких дел. Фактически эта экспертиза сводится к длинному разъяснению отличий учения Свидетелей Иеговы от ортодоксального христианского, а далее без внятной логической связки делается вывод, что в текстах, выражающих это учение, «содержится информации, явно, однозначно и непосредственно направленная на возбуждение вражды, пропаганду исключительности и унижение человеческого достоинства по признаку отношения к религии». В сущности, здесь презюмируется, что само отклонение от ортодоксии уже противозаконно.
Как сочетаются три описанных логики действий
Таким образом, можно усмотреть две довольно массово действующие причины негативных предубеждений к потенциальным объектам антиэкстремистского правоприменения. Их можно условно обозначить, как защиту секулярности от «слишком» активной религиозной деятельности (в этом ряду, например, стоят и популярные рассуждения о мусульманских платках в контексте противодействия экстремизму) и как защиту «традиционных религий» от нетрадиционных или от каких-то выступлений, которые воспринимаются, как секулярные или атеистические нападки на «традиционные религии». Могут ли эти два мотива совмещаться в одном человеке? Несомненно, и такое совмещение – характерный постсекулярный феномен, но все же надо помнить, что он состоит из двух независимых компонент.
Можно, конечно, сказать, что причина предубеждений против «нетрадиционной» религиозности, что бы эти слова ни обозначали, – в низкой квалификации экспертов, следователей или судей, но нельзя отрицать того, что подобные рассуждения возникают отнюдь не в вакууме. Распространенная, хотя и не основанная на законе, риторика об особой роли «традиционных религий» не может не действовать, и это банальное обстоятельство достаточно лишь упомянуть. Важнее отметить то, что помимо распространенной неприязни к НРД и вообще к непривычным религиозным проявлениям на правоприменительную практику, возможно, действует довольно распространенная концептуализация неприятия «религиозных инноваций» как потенциальной угрозы безопасности.
Сама по себе причинно-следственная связь между «религиозной инновацией» и возникающим вокруг нее конфликтом не надуманна. О ней (правда, не напрямую) говорилось, например, в проекте «Концепции государственной религиозной политики РФ», разработанном в конце 2003 года на кафедре религиоведения Российской академии государственной службы (РАГС)[31]. Но ведь это рассуждение очень легко поддается тривиализации под влиянием распространенных представлений о необходимости защиты традиций от любых изменений. К сожалению, именно тривиализованные представления о безопасности гораздо легче усваиваются теми, кто непосредственно проводит антиэкстремистскую политику в сфере, касающейся религии. И преследование читателей Саида Нурси, и дела об акциях современного искусства могут быть поняты и как защита традиционности как таковой. Ожидаемо, религиозная традиционность здесь однозначно увязывается с этно-национальной традиционностью, что было хорошо видно, например, еще в тексте приговора по выставке «Осторожно, религия!»[32].
IV. Предварительные выводы
Сфера противодействия тому, что в разговорной речи называется «религиозным экстремизмом», оказалась крайне проблемной сразу по двум причинам.
Во-первых, применяемое при этом законодательство о «противодействии экстремистской деятельности» оказалось, по причинам, никакого отношения к религии не имеющим, крайне неудачным, и оно сформировало аморфное правовое поле, в котором никто уже не понимает, что именно легально, а что нет. Это законодательство провоцирует произвольные и тем самым репрессивные решения.
Во-вторых, безусловно, существуют люди, группы и даже целые движении, чья деятельность имеет то или иное отношение к религии (в диапазоне от религиозного фундаментализма до агрессивного атеизма) и порождает более или менее серьезные правонарушения – от мелкого хулиганства до реальных убийств или потенциальной угрозы конституционному строю. Какие-то из этих групп неплохо изучены, какие-то не изучены совсем, но для широкой общественности и, к сожалению, для государственных и правоприменительных органов, вся эта деятельность «вокруг религии» представляется непонятной, так как не вписывается в привычные формы.
В результате не получается выстроить разумную классификацию угроз и разумную политику их предотвращения. И пространство борьбы с «религиозным экстремизмом» оказалось постепенно оккупировано самыми разными группами со своими интересами и своими, не стыкующими друг с другом, представлениями о допустимом и недопустимом. Сотрудники правоохранительных органов получили возможность успешно работать на свою «антиэкстремистскую отчетность» и реализовывать привлекательные для них конспирологические теории. Деятели разных религиозных и иных мировоззренческих организаций и групп получили возможность интерпретировать деятельность своих оппонентов как экстремистскую и требовать от правоохранительных органов преследования этих оппонентов (и хорошо еще, что правоохранители дают ход далеко не всем таким жалобам друг на друга).
И обвиняющие, и обвиняемые могут быть сторонниками или противниками тех или иных религиозных или секулярных взглядов, могут сами быть радикалами или умеренными (вариантов обвинений в экстремизме на практике невероятно много), но решения принимают не они (в частности – не руководство РПЦ, например), а именно правоохранительные органы, пусть и при каком-то согласовании своей политики с политическим руководством и с доминирующим общественным мнением. Правоохранительная система, сочетая прагматические интересы с представлениями, впитываемыми отовсюду, в том числе и от апеллирующих к ней групп, де-факто проводит такую «антиэкстремистскую политику», в которой все более заметны элементы внедрения религиозных элементов в секулярное право и которая параллельно становится все более репрессивной.
[1] См. почти нулевую статистику приговоров по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, до 1996 года – ст. 74 УК РСФСР) за 1991-1998 гг. в: Федотов Михаил. Понятие злоупотребления свободой массовой информации // Законодательство Российской Федерации и средствах массовой информации. М.: Центр «Право и СМИ», 1999 (http://www.medialaw.ru/publications/books/medialaw2/comment/6.html)
[2] Сейчас уже не так интересно анализировать общественные страхи того времени, но стоит отметить, что страх коренного изменения уклада жизни под воздействием НРД и их предполагаемых глобальных союзников разделяли и концептуализировали в том числе и вполне уважаемые люди: Трофимчук Н.А., Свищев М.П. Экспансия. М.: Кафедра религиоведения РАГС при Президенте РФ, 2000.
[3] Алексей Малашенко, Дмитрий Тренин. Время Юга. (Moscow: Гендальф, 2002). Pp. 69-112.
[4] Доклад доступен сейчас на сайте Центра «Панорама» (http://www.panorama.ru/works/patr/govpol/indem.html).
[5] Понкин Игорь. Создание в России федерального органа по делам религиозных объединений: за и против // Религия в России. 2002. 3 апреля (сейчас доступно: http://web.archive.org/web/20031114045854/http://religion.russ.ru/state/20020403-ponkin.html).
[6] Об этом я подробно писал в: Верховский А. Политика государства по отношению к национал-радикальным объединениям. 1991–2002 гг. М.: Центр «Сова», 2013. С. 121-151.
[7] Реальную известность документ приобрел после публикации в: Кеворкова Надежда. “Идеология вседозволенности и эгоизма” // Газета. 2002. 5 декабря.
[8] Официальной статистики hate crimes не существует. Собираемая Центром «Сова» статистика с 2009 года доступна на его сайте: http://www.sova-center.ru/database/.
[9] Впрочем, здесь уместно оговориться, что и в нашем уголовном правоприменении признак особой общественной опасности, отличающий, согласно ч.2 ст.14 УК, криминальное деяние от схожего, но не криминального, в делах о возбуждении ненависти или вражды практически не используется. Очевидно, что применительно к публичному высказыванию общественная опасность – если высказывание опасно – пропорциональна широте распространения высказывания и прицельности этого распространения. Попросту говоря, призыв к погрому, высказанный кем-то на его страничке в Фейсбуке, посещаемой десятком приятелей, менее опасен, чем тот же призыв, сделанный на центральном телевидении, а призыв к погрому, прозвучавший в произвольный момент посреди Тверской улицы, менее опасен, чем на митинге, состоящем из людей, уже настроенных на погром. Но мне не известен ни один случай, когда эти аспекты всерьез обсуждались в суде. Очевидно, это не недостаток отдельных судей, а отсутствие внятного и эффективного разъяснения соответствующих норм закона. Например, в большинстве изданных комментариев к УК понятие «публичность» применительно к высказыванию интерпретируется как высказывание, обращенное к «неопределенному кругу лиц», но такой комментарий ничего не дает для оценки степени и качества публичности.
[10] Текст Постановления Пленума Верховного суда РФ № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» от 28 июня 2011 года // Сайт Верховного суда РФ. 2011. 29 июня (http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=7315).
[11] Полный текст утвержденного ВС решения Ростовского областного суда доступен на сайте Центра «Сова» (http://www.sova-center.ru/files/xeno/rostov-reshenie-090911.doc). Решение было вынесено на основании обширного экспертного заключения и во многом его, как обычно, повторяет. Текст этого заключения также доступен на сайте Центра «Сова» (http://www.sova-center.ru/files/xeno/jw-expert-rostov-090715.doc).
Решение было вынесено на основании обширного экспертного заключения и во многом его, как обычно, повторяет. Текст этого заключения также доступен на сайте Центра «Сова» (http://www.sova-center.ru/files/xeno/jw-expert-rostov-090715.doc).
[12] Наиболее громкими были дела, которые можно было отнести к категории «критики РПЦ», а именно дела о выставках «Осторожно, религия!» и «Запретное искусство – 2006», но они отнюдь не единственные.
[13] С практикой оправданий Свидетелей Иеговы по обвинению по ст. 282 УК можно ознакомиться на сайте Центра «Сова», отталкиваясь от новости: Оправданы супруги Раитины из Читы // Центр «Сова». 2012. 23 октября (http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2012/10/d25610/).
[14] Текст приговора доступен, например, на сайте Газеты.ру (http://www.gazeta.ru/social/photo/pussy_riot.shtml?photo=4733485). Моя развернутая критика приговора: Верховский А. Вдогонку приговору Pussy Riot // Ежедневный журнал. 2012. 23 августа (http://ej.ru/?a=note&id=12171).
[15] Асламбек Эжаев, заведующий издательским отделом Московского исламского университета при Совете муфтиев России, переиздал в 2007 году книгу Мухаммада Али аль-Хашими "Личность мусульманина в том виде, который стремится придать ей ислам с помощью Корана и Сунны". Издательство завершило распространение книги уже после ее запрета (в составе одного из первых больших «списочных» запретов), но раньше, чем она появилась в Федеральном списке, и обвиняемый по ст. 282 УК Эжаев утверждал, что о запрете просто не знал. Но помогло ему не это, а только то, что в его издании было другое предисловие.
[16] Кравченко Мария. Неправомерное применение антиэкстремистского законодательства в России в 2012 году // Ксенофобия, свобода совести и антиэкстремизм в России в 2012 году. М.: Центр «Сова», 2013. С. 111-112.
[17] Султанов Айдар. Защита свободы совести, распространения убеждений через призму постановлений Европейского Суда по правам человека. М.: Статут, 2013. С. 195-197.
[18] Этой практике уже не один год. Она нигде, ажется, не обобщена, но в новостях и докладах Центра «Сова» мы постоянно ее отслеживаем. См., например, в последнем докладе: Там же. С. 119-123.
[19] Об этом написано уже много. См. например, статью Инны Загребиной в этом номере.
[20] Несоответствие закона «О противодействии экстремистской деятельности» принципу правовой определенности подтвердил в 2012 году и авторитетный орган Совета Европы - Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия). Перевод ее заключения доступен на сайте Центра «Сова» (http://www.sova-center.ru/misuse/publications/2012/07/d24899/).
[21] Эта тенденция из года в год отмечалась в докладах Центра «Сова» о неправомерном применении антиэкстремистского законодательства. Их все можно в сборниках Центра серии «Ксенофобия, свобода совести и антиэкстремизм в России» и увидеть на сайте Центра (http://www.sova-center.ru/misuse/publications/).
[22] Кравченко М. Указ. Соч. С. 123.
[23] Верховский А. Неправомерное применение антиэкстремистского законодательства в России в 2011 году // Ксенофобия, свобода совести и антиэкстремизм в России в 2011 году. М.: Центр «Сова», 2012. С. 104-105.
[24] Отсутствие публикации судебного решения, которое стало основанием для уголовных преследований, само по себе незаконно. Впервые решение Верховного суда было опубликовано на сайте «Мемориала» (http://www.memo.ru/hr/jbl/doc/2.htm), но первая официальная публикация хотя бы списка организаций последовала только в 2006 году.
[25] См.: Решение по делу Ю.Касымахунова и М.Сайбаталова, вынесенное ЕСПЧ 14 марта 2013 года // HUDOC. 2013. 14 марта (http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-117127#%7B%22itemid%22:[%22001-117127%22]%7D).
[26] Для краткости подробности этих дел здесь не приводятся. Но постоянный мониторинг этих и прочих неправомерных антиэкстремистских дел ведется Центром «Сова» и отображается в новостной ленте его сайта, в основном, по адресу http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/.
[27] Подробности кампании детально рассматриваются в: Пономарев Виталий. Российские спецслужбы против «Рисале-и Нур»: 2001-2012. М.: Правозащитный центр «Мемориал», 2012.
[28] Пчелинцев Анатолий. Можно ли в исламе обойтись без религии? // Религия и право. 2006. № 1-2.
[29] Закон Республики Татарстан "О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "О свободе совести и о религиозных объединениях" // Сайт «Российской газеты». 2012. 3 августа (http://www.rg.ru/2012/08/03/tatarstan-zakon-sovest-reg-dok.html).
[30] Текст эксперта С.А. Мочаловой имеется в архиве автора.
[31] Концепция государственной религиозной политики Российской Федерации // Религия и СМИ. 2004. 5 февраля (http://www.religare.ru/2_8227.html).
[32] Текст приговора доступен на сайте Центра «Сова» (http://www.sova-center.ru/religion/news/education-culture/relationships/sakharov-exhibition/2005/03/d4132/?originals=1).